Научно-методический сборник "Вера. Культура. Образование. Цивилизационный выбор России". Выпуск 4
Православие и литература "Серебряного века"
Вступление
В конце XIX – начале XX века русская интеллигенция словно с цепи сорвалась. Начитавшись Фридриха Ницше и Оскара Уайльда, Бодлера и Метерлинка, Верлена и Фрейда, она взахлёб впитала в себя зло и обезбоженность их воззрений. Более того, оплодотворило их «Русским революционным размахом» и создало все условия для того, чтобы Россия стала пристанищем новых изощрённых нравов, процветавших в Содоме.
Я говорю об этом с тревогой, поскольку сейчас мы видим небывалое возвеличивание «Серебряного века» и его кумиров, а скорее идолов. Их имена и произведения перенасытили школьные и вузовские программы. Их книги изданы громадными тиражами и лежат на всех книжных развалах, причём это не только имена первого ряда, но и растленные сочинения, казалось бы, навсегда забытых сочинителей. Я уверен, что сегодня сатанинскими силами мирового масштаба выработана концепциярастления современной жизни и в первую очередь российской молодёжи. Я обращаюсь к учителям, педагогам, религиозным писателям, священникам. Оцените вовремя эту опасность. Не это особенно опасно. Ведь как сказал один из мудрецов – и дьявол талантлив. Оберегайте наших детей и отроков от соблазнов «Серебряного века».
«Серебряный век» и Православие
Нет числа утверждениям историков, критиков, политиков, публицистов, философов о том, что «Серебряный век» русской культуры продолжал и утверждал традиции золотого пушкинского века. Однако внимательное прочтение наследия Блока, Ахматовой, Гумилёва, Цветаевой, Ходасевича, раннего Маяковского, Михаила Кузмина, Фёдора Сологуба, Валерия Брюсова и прочих кумиров русского декаденства привело меня к убеждению, что их творчество является в гораздо большей степени антипушкинским, чем это казалось апологетам либерально-демократического склада в эпоху гнилой оттепели и кровавой перестройки. Именно в эти периоды в обществе воскресали и размножались бациллы и трихины растления, насилия, воинствующего антихристианства, свойственные «Серебряному веку», талантливые чада которого жаждали всевозможных революций: политических, экономических, культурных, религиозных, сексуальных и т.д.
Самая разрушительная для общества и жизни из революций – была революция антирелигиозная, которой разрушали величайшие заветы, завещанные нам от «Золотого века» Пушкиным, Гоголем, Достоевским. «Если Бога нет, то всё позволено», – говорит один из его героев. А творцы «Серебряного века» только и мечтали о том, чтобы им всё было позволено – и в этом смертном грехе гордыни не раскаялся ни один из них. У Александра Блока есть одно «ключевое» стихотворение «К Музе»:
Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастия есть.
Блоковская муза не различает зла и добра («Зла, добра ли? – Ты вся – не отсюда») она служит только идолу красоты «Соблазняя своей красотой душу поэта» и даже «ангелов», а ему несет «страшные ласки» – «мученье» и «ад».
И когда ты смеёшься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.
Это – венец отнюдь не Божественного происхождения.
А. Ахматова в «Поэме без героя» так формулировала своё нравственное кредо: «Поэтам вообще не пристали грехи».
Все главные герои-призраки этой поэмы являются персонажами западноевропейской мифологии, все они одновременно слуги «владыки мрака» в той или иной форме, продавшие ему душу: Фауст, Дон Жуан, Дориан Грей, Казанова, Калиостро, Саломея, Мессалина... Каждая из этих фигур – олицетворение самых изощрённых и модных пороков человечества. А сама создательница поэмы, естественно, видит себя в роли булгаковской Маргариты, намазанной колдовским зельем и летящей на бал к Воланду:
Словно та, одержимая бесом,
Как на Брокен ночной неслась.
Тема общения с сатанинскими силами тьмы основная в творчестве Ахматовой на протяжении всей жизни.
В молодости – это откровенное признание о продаже души – фаустовская сделка:
«Дьявол не выдал. Мне всё удалось. /Вот и могущества явные знаки. / Вынь из груди моё сердце и брось /Самой голодной собаке...». Чёрные призраки («Чёрный человек») посещали её всю жизнь: стихи, написанные в разгаре войны – в Азии – свидетельствуют об этом:
Седой венец достался мне недаром
И щёки, опалённые загаром,
Уже людей пугают смуглотой,
Но близится конец моей гордыне,
Как той, другой, страдалице – Марине
Придётся мне напиться пустотой,
И ты придёшь под чёрной епанчою,
С зеленоватой страшною лица...
Но мне недолго мучиться загадкой:
Чья там рука под белою перчаткой
И кто прислал ночного пришлеца?
Страдалица Марина – это Марина Цветаева, обезбоженность которой была, пожалуй, похлеще, нежели у Ахматовой.
Цветаева. Она, несомненно, любила и почитала Пушкина, написала множество стихов, ему посвящённых, статью «Мой Пушкин». Но в монологе «Искусство при свете совести» опустила Пушкина на уровень «Серебряного века», рискнув заявить, что искусство живёт по своим законам – вне совести, а значит не подчинено Божественной воле и заветам христианства.
«Художественное творчество в иных случаях – некая атрофия совести, больше скажу: необходимость атрофии совести – тот нравственный изъян, без которого ему, искусству, не быть». «Само искусство – тот гений, в пользу которого мы исключаемся (выключаемся) из нравственного закона...». «Многобожие поэта. Я бы сказала: в лучшем случае христианский Бог входит в сонм его богов...». «Права суда над поэтом никому не дам». «Единственный суд над поэтом – самосуд...».
Пусть меня растерзают «фанаты» Марины Цветаевой и специалисты-профессора по «Серебряному веку», но когда я увидел пляску наших «кассандр» перед алтарём в Храме Христа Спасителя, то подумал: «Одержимые!» «Накатило!..» «Стихия, доведённая до площадного идиотизма».
Мы дети страшных лет России...
А. Блок
Обезбоженность, порой переходящая в открытое богохульство, успехи и достижения сексуальной революции, равнодушие, а порой и ненависть к семейным устоям, безграничное злоупотребление «правами человека», культ греха и потеря инстинкта самосохранения привели «Серебряный век» к девальвации Божественной ценности жизни, к душевной опустошённости его «продвинутых детей», к потере смысла человеческого существования. В конечном счете, самоубийство стало обычным явлением для «серебряной среды». Век, как древнеримский Сатурн, стал пожирать своих детей. Растление душ, как правило, завершалось «жертвоприношением тел». Особенно рекордным по числу поэтов, наложивших на себя руки, был предвоенный 1913 год.
В 1913 году покончил с собой Виктор Гофман, в том же году застрелился поэт Всеволод Князев – главный герой ахматовской «Поэмы без героя», один из любовников Михаила Кузмина. Ему же посвящал свои стихи Георгий Иванов.
В том же роковом 1913 году повесился в психиатрической лечебнице ещё один талантливый поэт «Серебряного века» – граф В. Комаровский (которому Ахматова посвятила стихотворение).
Содомит и одновременно поэт И. Казанский в 1913 же году издал книгу стихотворений «Эшафот» с эпиграфом: «Моим любовникам посвящаю». Он перерезал себе горло модной бритвой «Жилетт», а Велимир Хлебников посвятил несчастному грешнику стихи «И на путь меж звёзд морозных полечу я, не с молитвой – с окровавленной бритвой».
1916 год – Лозинский – самоубийство. Застрелился свояк Брюсова Самуил Киссин, отравилась цианистым калием Анна Мар – писавшая романы о садистах, мазохистах и лесбиянках. Талантливое дитя «Серебряного века» Георгий Иванов хорошо знал нравы своей среды, когда писал: «Стал нашим хлебом цианистый калий».
Эпидемия самоубийств в содомитской среде становилась естественным явлением. Как будто торжествующее греховное зло, достигнув недопустимого для жизни переизбытка, согласно неотвратимому закону природы соскальзывало на путь самоистребления и начинало пожирать самоё себя, словно змея собственный хвост.
Владимир Маяковский бредил грехом самоубийства в своей лирике, даже плоть от плоти простонародной Сергей Есенин с ужасом писал о суицидных соблазнах, посещавших его. Дважды пытался покончить с собою популярнейший прозаик начала века Леонид Андреев. Сам Николай Гумилёв, будучи в Париже, дважды по невыясненным до конца причинам покушался на самоубийство. Вирус этой болезни жил и в роду Ахматовой: её старший брат Андрей умер от смертельной дозы морфия. Всем им можно было поставить диагноз «духовная интоксикация», что означает отравление роковыми вопросами бытия души, не получившей прививку новозаветного христианства, спасающего человека от неразрешимых душевных и телесных соблазнов. Самоубийство для таких натур – это отсутствие надежды на спасение, на милосердие Творца, это уход из жизни без покаяния и без примирения с Высшей Волей. Да и о каком христианстве и вере в бессмертие души можно было говорить, если самая талантливая поэтесса «Серебряного века» Марина Цветаева с беспредельной материалистической, языческой гордыней, писала:
Я не более, чем животное,
Кем-то раненное в живот.
Жжёт... Как будто бы душу сдёрнули
С кожей! Паром в дыру ушла
Пресловутая ересь вздорная,
Именуемая душа.
Христианская немочь бледная!
Пар! Припарками обложить!
Да её никогда и не было!
Было тело, хотело жить...
Брат будущего мужа Марины Цветаевой Сергея Эфрона повесился в Париже в 1911 году. В ту же ночь вслед за ним на том же железном крюке повесилась и мать Сергея Эфрона – Елизавета Дурново-Эфрон (свекровь), революционерка из тайного общества «Народная воля». Третьей висельницей из этой семьи стала сама Марина.
А если взять эпоху оттепели и перестройки и вспомнить писателей-самоубийц нового времени? Геннадий Шпаликов, Илья Габай, Делоне, Карабчиевский, Якобсон, Б. Рыжий, Нина Турбина, Н. Бенуа, Александр Башлачёв и многие, многие другие бунтовщики против Божественных устоев бытия. Да и Высоцкий по сущности довёл себя до суицида.
Дети «Серебряного века» очень любили в своих стихах намекать или говорить прямо, что они играют с адскими силами, что они накоротке с «владыкой тьмы», что их притягивают тёмные бездны зла. Игра в ад закончилась настоящим адом. Ад петлюровских погромов, ад расказачивания, ад Белого и Красного терроров, ад голода, холода и продразвёрсток, ад эпидемий тифа, ад чекистских застенков и белогвардейских контрразведок... «Хлестнула дерзко за предел нас отравившая свобода...» «Уже написан Вертер...» «Всё расхищено, предано, продано...»
Здесь девушки прекраснейшие спорят
За честь достаться в жёны палачам,
Здесь праведных пытают по ночам
И голодом неукротимых морят...
Анна Ахматова
Обезбоженные дети «Серебряного века» не сразу поняли, что новая власть взяла на себя все обязанности высших сил, испепеливших Содом и Гоморру. Но ни ЧК, ни местечковый бюрократический аппарат, ни Кремлёвский горец не смогли бы совершить возмездия, если бы на то не было ВЫСШЕЙ Воли. Однако всё свершается по Священному Писанию: «Мне отмщение и Аз воздам», а бич Божий может быть вложен в любые грешные руки.
Атеистическое хулиганство поэтов «Серебряного века» той поры было запредельным.
В 1919 г. на стенах Страстного монастыря в Москве появились скабрезные надписи, совершенные имажинистами.
Есенин, Мариенгоф, Шершеневич, Кусиков были тоже детьми «Серебряного века». Слова «перформанс» тогда не существовало, Гельман ещё не родился, но настроения среди творческой интеллигенции – вроде тех, которыми охвачены сегодня наши «пуськи-райки», – в годы революции были чрезвычайно сильны. Да что говорить, если крещёная русская женщина Марина Цветаева отвергала существование души, если Владимир Маяковский, дворянин и тоже крещёный человек, кричал в своих стихах, словно обращаясь к какой-то уличной шпане:
Я думал – ты всесильный божище,
А ты недоучка, крохотный божик,
Видишь, я нагибаюсь,
Из-за голенища
Достаю сапожный ножик.
Крылатые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте пёрышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
Отсюда до Аляски!
Кощунствовал Есенин: «Тело, Христово тело, выплёвываю изо рта», ну, он хотя бы покаялся в других стихах:
Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.
Выдающимся же богохульником той эпохи был, конечно, Маяковский.
Из воспоминаний Л. Ю. Брик: «Запомнилась «Тайная вечеря» – художницы Тони, где место Христа занимал Маяковский; на другой – Маяковский стоит у окна, ноги у него с копытцами, за ним убогая комната. Кровать, на кровати сидит сама художница в рубашке. Тоня выбросилась из окна, не знаю, в каком году».
Если Цветаева говорила о душе – «христианская немочь бледная» и Ахматова радовалась, что «поэтам вообще не пристали грехи», то молодой Маяковский, по воспоминаниям его киевской поклонницы Н. Рябовой, «снял чётки у меня с шеи и, оборвав крест, надел опять...» Ну, сцена прямо-таки из поэмы Багрицкого «Смерть пионерки», в которой умирающая девочка Валя с болезненной жестокостью отстраняет материнскую руку, которая пытается надеть ей на шею золочёный крестильный крестик.
Богоборческий пафос Маяковского всегда восхищал Цветаеву. Недаром она изображала его в стихах как великана-разрушителя (большевика с красным флагом) с картины революционного художника Бориса Кустодиева:
Превыше крестов и труб,
Крещёный в огне и дыме,
Архангел-тяжелоступ,
Здорово в веках – Владимир!
«Превыше крестов» – сказано не случайно...
...Недавно я перечитал книгу рассказов Зощенко, изданную в 1974 году, и поразился цинизму, с которым автор предисловия А. Дымщиц сравнивает фельетоны, бытовые зарисовки и сценки из нэповских времён с прозой Пушкина, Гоголя, Чехова. На самом деле, продукцию Зощенко уместнее было бы сравнить с продукцией Жванецкого, Лиона Измайлова, Ефима Шифрина. «Имя им легион». Что же такого нашла в творчестве Зощенко Ахматова? Неужели ей пришлись по душе его рассказы о попах, которые впадают в пьянство, в распутство и даже богохульничают охотно. А главное, что часть этих рассказов написана в 1922–1923 годах, когда Русская Церковь после секретного письма Ленина «Об изъятии церковных ценностей» подверглась страшному погрому, а другая часть – в 1937–1938 годах, когда власть добивала Церковь... Было за что советской власти награждать бывшего дворянина и офицера орденом, щедро издавать, вывозить из блокадного Ленинграда. Скорее всего, Ахматова ценила его как отпрыска «Серебряного века» и «товарища по несчастью», чьё имя вместе с её именем попало в доклад товарища Жданова.
В русской литературе есть несколько описаний дьявольских шабашей нечистой силы: «Сон Татьяны» из «Евгения Онегина», шабаш из Ахматовой «Поэма без героя», пир у Воланда Булгакова. Напомню ещё об одном, изображённом поэтом А. Вознесенским – плейбоем и богохульником «оттепели».
Именно он изо всех «шестидесятников» ухитрился одновременно с прославлением Ленина («Лонжюмо», «Секвойя Ленина», «Уберите Ленина с денег...») отбивать поклоны «сивиллам», «командорам» и прочим деятелям искусства «Серебряного века».
«Тайные мои Цветаевы», «невыплаканные Ахматовы», «Кузмин Михаил – чародей Петербурга», «Люб мне Маяковский – командор, гневная Цветаева – Медуза, мускусный Кузмин и молодой Заболоцкий – гинеколог музы»; «Плисецкая – Цветаева балета», «Ах, Марк Захарович, нарисуйте непобедимо синий завет» (о Шагале), «Лиля Брик на мосту лежит, разутюженная машинами» (это о каких-то парижских рисунках на мостовой). Словом, весь джентльменский набор «серебряновековых» и «революционных» ценностей он совмещал со взятыми напрокат у кого попало – от Маяковского до Емельяна Ярославского – весьма развязными поношениями христианских символов и нравственных понятий: «Чайка – плавки Бога»; «И Христос небес касался лёгкий, как дуга троллейбуса...»; «Нам, как аппендицит, поудалили стыд...»; «Слушая Чайковского мотивы, натягивайте на уши презервативы...»; «Крест на решётке – на жизни крест...» (о монашеской судьбе); «Пазолини вёл на лежбище по Евангелью и Лесбосу...» (пикантность бессмыслицы, видимо, заключена в том, что Пазолини был геем). Свидетельств мелкого стихотворного хулиганства в книгах А. Вознесенского не счесть. «Деревянное сердце, деревянное ухо» – так сказал об этом вечно несовершеннолетнем богохульнике А. Солженицын.
Но вернусь к сцене шабаша нечистой силы, возникшей под пером Вознесенского. Шабаш происходил в Лондоне в 1964 году. Шабаш выглядел так:
«Обожали, переполняли, ломились, аплодировали, освистывали, балдели, рыдали, пестрели, молились, раздевались, швырялись, мяукали, кайфовали, кололись, надирались, отдавались, затихали, благоухали. Смердели, лорнировали, блевали, шокировались, не секли, не фурыкали, не волокли, не контачили, не врубались, трубили, кускусничали, акулевали, клялись, грозили, оборжали, вышвыривали, не дышали, стонали, революционизировались, скандировали: «Ом, ом, оом, ооммм...» Овации расшатывали Альберт-холл»; «...съехались вожди демократической волны поэзии. Прилетел Ален Гинсберг со своей вольницей. С нечёсаной чёрной гривой и бородой по битническому стилю тех лет <...> уличный лексикон был эпатажем буржуа это была волна против войны во Вьетнаме>. Он боготворил Маяковского».
Вот так аукаются друг с другом эпохи. И недаром именно «шестидесятница» и дочь «оттепели» Валерия Новодворская в восторженной статье, названной строчкой из шестидесятника Окуджавы – «На той единственной гражданской» воспела побоище 5 октября 1993 года, которое устроили «шестидесятники» Ельцин и Гайдар.
«После октября мы полноправные участники нашей единственной гражданской, мы, сумевшие убить и не жалеющие об этом, – желанные гости на следующем Балу королей Сатаны. Вся земная жизнь – большой вечер у Сатаны.
Я желала тем, кто собрался в «Белом доме», одного – смерти. Я жалела и жалею только о том, что кто-то из «Белого дома» ушёл живым. Чтобы справиться с ними, нам понадобятся пули. Нас бы не остановила и большая кровь...
Сколько бы их ни было, они погибли от нашей руки. Оказалось также, что я могу убить и потом спокойно спать и есть <...>.
Мы вырвали у них страну. Ну, а пока мы получаем всё, о чём условились то ли с Воландом, то ли с Мефистофелем, то ли с Ельциным» («Огонёк», № 2–3, 1994 г., стр. 26).
«Я не питаю ни малейшего уважения или приязни к русской православной церкви», «Такие, как я, вынудили Президента на это (на расстрел парламента – прим. Ст. К.) решиться и сказали, как народ иудейский Пилату: “Кровь Его на нас и на детях наших”, “Один парламент под названием Синедрион уже когда-то вынес вердикт, что лучше одному человеку погибнуть, чем погибнет весь народ...”»
В ненависти к христианству и его создателю Новодворская выступает как достойная ученица «Серебряного века», Емельяна Ярославского и Демьяна Бедного.
А теперь некоторые соображения об ответственности за смерть нескольких сотен защитников российского парламента.
«Они, – пишет Новодворская в «Огоньке», – погибли от нашей руки, от руки интеллигентов <...> не следует винить в том, что произошло, мальчишек-танкистов и наших коммандос-омоновцев. Они исполнили приказ, но этот приказ был сформулирован не Грачёвым, а нами», «Мы предпочли убить и даже нашли в этом моральное удовлетворение».
Спасая Пушкинские, Гоголевские, Тютчевские, Достоевские заветы от «Серебряного века», с осуждением его растления и богохульства выступал Иван Бунин: «Они задавались целью совершенно устранить из литературы этический элемент, проповедовать безграничный индивидуализм, разнузданность все позволяющей личности, прославлять под видом утончённости разврат, прославлять смерть и даже самоубийство», а также известный священник и богослов Иосиф Фудель, философ Федор Степун и даже Лев Толстой в минуты просветления.
Но наибольшую лепту в спасении соблазнов эпохи внес святой Иоанн Кронштадтский. В своей проповеди, названной «Бесноватые», праведный Иоанн Кронштадтский употребил слово, не сходящее с языка сегодняшней демократической прессы: «К особенному роду бесноватых надобно отнести людей, так называемых либеральничающих: то есть слишком свободно, вопреки христианскому и всякому здравому смыслу мыслящих».
Он постоянно пытался напоминать литераторам об их великой ответственности перед обществом, перед народом, перед Россией: «Вот характер наших борзописцев: живя в постоянной, ежедневной прелести самообмана, они прельщаются или стараются прельстить всех и сделать участниками своего самообмана».
Книга праведного Иоанна Кронштадтского, откуда взяты эти пламенные слова, вышла при жизни проповедника и называется «Путь к Богу».
Приведу еще несколько отрывков из этой книги: «Наши светские литераторы, писатели при жизни своей сами себя делают богами, и по смерти желают своим собратьям по перу дорогих памятников на видных местах. Самомнения – бездна».
Порой он смиренно просил «властителей дум», зная силу их соблазнительных талантов, не забывать о душе и о Боге: «Господа писатели! Мысль ваша и язык ваш обтекает всю землю, о всём вы мыслите и пишете, только не заглядываете в свою душу, а всё ли благополучно в ней...».
Иногда великий проповедник доходил чуть ли не до отчаяния и горевал, видя, как кумиры толпы употребляют во зло свой дар, полученный ими по Высшей Воле от природы: «Светские писатели, пишущие многоглаголиевые романы, завлекающие искусно составленными рассказами о вымышленных или действительных лицах и их пустой страстной жизни <...> пожнут тление. Сеяли суету, суету и пожнут <...> Ты один, Господи, можешь очистить загнившую нравственную атмосферу русского юношества и людей зрелого возраста, зачитавшихся еретиком Львом Толстым и вообще гнилою литературою России и Запада». И не случайно, что над прахом Толстого возвысился зелёный холм без креста... Ведь даже поэт советской эпохи Николай Рубцов знал, что «каждому на Руси памятник – добрый крест»... «Тихо ответили жители – каждому памятник – крест...» А Льва Толстого похоронили «без церковного пения, без ладана, без всего, чем могила крепка». Скорее по-ленински, чем по-русски.
Хотел я ещё продолжить заключение к своим заметкам о «Серебряном веке», о хрущёвской оттепели и горбачёвско-ельцинской перестройке, но стал перечитывать воспоминания композитора Георгия Свиридова и нашёл у него слова, которыми и закончу эту работу: «Искусство нашего века несёт большую ответственность за то, что оно настоятельно и талантливо проповедовало бездуховность, гедонизм, нравственный комфорт, кастовую интеллигентскую избранность, интеллектуальное наслажденчество и ещё того хуже: упоённо воспевало и поэтизировало всякого вида зло, служа ему и получая от этого удовлетворение своему ненасытному честолюбию, видя в нём освежение, обновление мира. Всё это, несомненно, нанесло огромный вред человеческой душе...». Лучше и точнее не скажешь.
Станислав Юрьевич Куняев
главный редактор журнала «Наш современник»,
почётный гражданин города Калуги, г. Москва

 Основатель обители - прп. Пафнутий
Основатель обители - прп. Пафнутий Священноархимандрит монастыря
Священноархимандрит монастыря Наместник монастыря
Наместник монастыря Последний наместник обители перед ее закрытием
Последний наместник обители перед ее закрытием Схиархимандрит Амвросий Балабановский (Иванов)
Схиархимандрит Амвросий Балабановский (Иванов) Духовник обители
Духовник обители Монастырский хор
Монастырский хор История
История Архитектура
Архитектура Подразделения
Подразделения Подворья
Подворья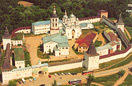 О монастыре
О монастыре Просвещение
Просвещение Издательство
Издательство Молодежное служение
Молодежное служение Калужская епархия
Калужская епархия Православные СМИ
Православные СМИ Боровский край
Боровский край Миссионерская деятельность
Миссионерская деятельность Социальное служение
Социальное служение Доска объявлений
Доска объявлений Фотогалерея
Фотогалерея Аудиогалерея
Аудиогалерея Видеогалерея
Видеогалерея Детская воскресная школа
Детская воскресная школа Многофункциональный центр традиций и инноваций «Стратилат»
Многофункциональный центр традиций и инноваций «Стратилат» Образовательные чтения и конференции
Образовательные чтения и конференции Вопрос священнику
Вопрос священнику Еженедельник «Вестник»
Еженедельник «Вестник» Журнал «Кораблик»
Журнал «Кораблик» Газета «Боровский просветитель»
Газета «Боровский просветитель» Серия «Вера. Образование. Жизнь.»
Серия «Вера. Образование. Жизнь.» Книги
Книги Буклеты
Буклеты Молитвослов-тексты
Молитвослов-тексты Авторы
Авторы Паломническая служба
Паломническая служба Паломнический центр
Паломнический центр Музей "Русской Иконы"
Музей "Русской Иконы" Паломническая служба
Паломническая служба Паломнический центр
Паломнический центр Музей "Русской Иконы"
Музей "Русской Иконы"




