Газета "Вестник" № 43 - 2015 г.
Между глобальным и индивидуальным. Современные культурные конфликты и стратегии их преодоления
Выступление на заседании круглого стола «Традиция и новации в культуре:
реальность и перспективы» по направлению «Церковь и культура» XVIII Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии.
Калуга, 22 сентября 2015 г., Дом Правительства Калужской области
Капитолина Антоновна Кокшенева – начальник Центра государственной культурной политики ФГНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева», доктор филологических наук, г. Москва
Распад СССР и мировой коммунистической системы привели к изменению не только политического языка, но и языка культурного. Как в политике «тоталитаризму» противопоставили термин «демократия», так и в культуре иерархическому центризму противопоставили одновременно толерантность и мультикультурность – с одной стороны, культурный национализм – с другой (украинский вариант). «Толерантности» наши посткоммунистические соседи требовали прежде всего от русской культуры и ее носителей: советская унификация понималась теперь как насилие над другими культурами, но «советское» и «русское» преднамеренно объединялось в культурном смысловом поле как нечто единое. Тоталитаризм приписывался уже всей русской культуре, а не только ее последнему советскому периоду («русский фашизм хуже немецкого» – эта провокативная теза, примененная М. Швыдким в его передаче «Культурная революция», тем не менее, отражала реальное культурное сознание «передовой» (либеральной, креативной) части интеллигенции 90-х годов XX века). Русский «культурный империализм» представлялся не менее опасным, чем тоталитаризм и нацизм! В реальности вместо культурной толерантности как требования всеобщего понимания и установки на терпимость, таковой стали требовать исключительно от русской культуры. Это она должна была «каяться в грехах» этнокультурного подавления всех иных национальных культур как внутри России, так и за ее пределами.
Теоретическую установку на толерантность, по сути, сменила практика культурного конфликта. Толерантность как практика культурного ненасилия потерпела стремительный крах. Советский культурный язык в постсоветском пространстве стал восприниматься как язык силы и даже насилия. Сдержать конфликт мировоззрений в состоянии взаимной терпимости не удалось, поскольку толерантность предполагала некое активное действие со всех сторон: способность сдерживать себя требовалась только от русских, только они должны были контролировать собственные действия, в то время как иные сограждане иных этнических групп и национальных сообществ не всегда «прилагали» к себе данные требования. Безусловно, толерантность предполагала «сдерживание чужого» на своей культурной территории (европейцами – арабского инокультурного элемента; русскими – бывших соотечественников из Средней Азии), но она же подразумевала, что «чужое» способно измениться и изменить себя, свои культурные нормы и привычки под воздействием чужого как «русского», «французского», «немецкого». Увы, для такой красивой теоретической схемы реальные основания оказались и не такими оптимистичными, и не такими прочными, что отразилось в признании многих европейцев в виде тезиса о «крахе мультикультурализма». Толерантность в реальности терпит одно поражение за другим.
Всё оказалось сложнее. И сегодня совершенно ясно, что культурные конфликты и культурное насилие имеют иную природу, нежели конфликты политические или военные.
Толерантность как реакция на практики насилия (политического, идеологического), очевидно, должна иметь свои пределы. Где они и есть ли они в современном мире? Кто и что сопротивляется американцам во Вьетнаме, Афганистане, Ираке? Совершенно очевидно, что это было и сопротивление этнокультурных традиций, то есть «локальных форм жизни», противостоящих «чужому» как глобальному. Однако способность к сопротивлению и способы сопротивления культурных традиций разным формам насилия часто трудно уловимы – они проявляются как феномены и до тех пор, пока носители их сохраняют в себе идентичность.
Так, в советской рамочной культуре некоторые культурные традиции преследовались – в определенные годы это был и Достоевский, и Есенин, и Лесков, и Булгаков, и Платонов, и Шаламов, и другие. Христианские смыслы русской культуры изымались из трактовок русской классики, но мы же все стали свидетелями того, как они – культурные традиции – способны демонстрировать быстрое и реальное возрождение при возникновении благоприятных условий. Если посмотреть на проблему насилия с этой культурной стороны, то можно сделать такой вывод: последним пределом насилия является полное исчезновение способности к воспроизведению культурной традиции у ее носителей1. Так, русские полностью потеряли культуру пения – семейного, застольного. Потеряли культуру своей мелодики, своего мелодического лада, вытесненного ритмами современной афроамериканской культуры.
Сегодня очевидно, что есть направление на глобальное (и оно ярко выражено), есть направление на локальное (и оно дает о себе знать в культурной стратегии на брендирование территорий, на этническое как локальное). Но вот национально-государственное измерение из русской культуры изъято. И это случилось не сегодня.
Советский культурный универсум опирался на ценности интеркультуры: братства народов, руководящую роль бодрых партийных установок о развитом социализме: систему всечеловеческих ценностей (все люди – братья), все хотят мира и мирной жизни (символ – голубь мира), все хотят материальных благ, впрочем, вполне «равных» и вполне умеренных. Чешский фарфоровый сервиз «Мадонна» и чешский хрусталь, книжные собрания сочинений и тома «Библиотеки всемирной литературы» демонстрировали благополучие и социальное, и культурное. Все хотели работать и работали на общую цель – светлое будущее. Не будем уничижать советскую культуру и полагать ее исключительно примитивной – это было бы неверно. И массовая советская культура, и элитарная были и достаточно человечны, и достаточно художественно-талантливы. Проблема в другом – национальные формы жизни не ценились именно в русской культуре. Мир крестьянской деревни, например, с его повседневным ладом-укладом, с его историческим «вываливанием» из рамок советской России, с его природным и нравственно-историческим циклом жизни, с личностными переживаниями, с пониманием смысла своей жизни через призму собственно русской культурной идентичности – все это вдруг стало в естественную оппозицию советской офицальной литературной традиции и родилось именно как «деревенское направление» в культуре. «Деревенщики» были национальным культурным пластом в море советского положительного искусства реализма. Они были значимы и продемонстрировали своим появленим тот факт, что культурный советизм не был столь тоталитарен, как принято было его представлять в постсоветские годы, не был настолько тоталитарен, чтобы напрочь уничтожить русскую сущность. Именно культурное сопротивление и культурные конфликты уже в советское время были более значимы и наполнены, чем конфликты идейные и политические (которые в большей степени были контролируемы и подавляемы).
Этнизация культуры и этнизация истории на просторах постсоветских стала источником конфликтов, которые до сих пор не исчерпаны и готовы вновь и вновь разгораться. Самый вопиющий пример – Украина. Национальное стало претендовать на центральное место как во многих постсоветских культурах, так и внутри России, в национальных культурах народов, живущих в ней. И если для народов России вектор этнокультурного развития все эти годы (после 1991-го) был определяющим и совпадал с мировым трендом (поддерживать малое), – то с русским народом вопрос вообще ставился иначе, потому как в глазах «цивилизованного сообщества» русские были «отсталыми» и эта «отсталость» объяснялась уже не советскими ограничениями, а будто бы сущностью самой России и русских как народа. Такие «отсталые» и такие большие: огромные территории, огромные природные ресурсы, огромный коллективистский потенциал, традиции государственности, великая культура! Как тут не озаботиться умалением большого и стратегическим его разрушением? Этим и занимались все недавние двадцать с лишним лет.
Все реформы 90-х или начатые тогда, в нашей стране были проведены на той ценностной платформе, которая была русским чужда. И этот исторический парадокс непонятным для «западного ума» образом русские почему-то выдержали. Вот уж воистину – «Умом Россию не понять». Умом западным, чужим.
Нормы жизни и чужие стандарты потребления, обрушившиеся на русского человека в конце XX века, существенно сдвинули собственный наш культурный центр тяжести. В сознание русского человека были внедрены «невозможные потребности», «невероятные желания», для реализации которых не было никакой реальной экономической базы. И тут подоспел кредит – просто волшебник, который тут же выполнял все ваши желания. Но это другая тема…
Русских вновь стали ссорить с собственной историей, с собственной национальной сущностью и культурой, а реформы проводить на базе конфликта. Произвели взлом базовых ценностей, а также фундаментальных «институтов идентичности»: идентичности цивилизационной (Россия – «отсталая», русские – нецивилизованные, «носители рабской психологии»); исторической (русские – тоталитаристы, «несправедливо владеющие самой большой территорией», превращенной ими в «империю зла»); культурной (отказ от культурной нормы и табу ради ложно понимаемой свободы и активное заполнение западными культурными формами ежедневного пространства – от кино до всевозможных ток-шоу).
Именно на этом культурном поле вырос отвратительный тип – «всего чужого гордый раб», который продолжает свирепствовать в современной культуре. Чужебесие было фантастичным. Никакой общей матрицы в такой ситуации было невозможно создать – оставался только «плюрализм» как принцип культуры и изрытое, израненное «актуальщиками» культурное поле, превращенное в фрагментированные куски, каждый из которых был захвачен группкой адептов. Именно культура ежедневно, ежечасно формировала клона – теленацию, охваченную жадным потреблениям всего подряд: от жвачки до шопингов в иные земли.
Конфликты культур наиболее глубоки, поскольку они в конечном счете связаны с представлением нации или конкретного человека о возможности «полной утраты смысла своего существования». И это – принципиально иное измерение конфликта, когда человек теряет смысл жизни, теряя свою культуру, собственный мир. Отметим сразу, что угроза потери может быть истинная, но может быть и мнимая. Типичным примером мнимой угрозы являлось сопротивление в Украине закреплению за русским языком статуса государственного (это якобы приведет если не к уничтожению, то к приостановке развития украинского языка). Но вместе с тем, учитывая большой процент населения, говорящего на русском языке (в Киеве, например, до 50% ), политики Украины не раз привлекали голоса русских на свою сторону обещаниями легализации статуса родного для них русского языка. Но потом эти обещания забывались – так проявляет себя современное экзистенциальное насилие, в котором не просто обнаруживает себя некая «тоталитарная воля» носителей всеобщей политической культуры (как это было в советское время), но напротив, мы видим серьезную претензию на руководство именно уникальным, особенным в человеке, его способом жить и говорить на родном языке. Такая стратегия гуманитарной силы более тотальна и тоталитарна, чем советская культурная стратегия. Культурные конфликты сегодня содержат в себе всеобъемлющий потенциал бытийственного (экзистенциального) масштаба.
Современное понимание конфликта культур требует и особых способов их разрешения, учитывая при этом их сугубую важность для практики. Рождение науки конфликтологии на постсоветском пространстве не случайно, но она в большей степени опирается на изучение проблем в социально-психологическом ключе с опорой на научные экспертизы. В сущности, конфликтология по-прежнему не может обойтись без старых понятий о веротерпимости и толерантности как системе изменения взгляда при изучении подходов и сущностей конфликтующих сторон.
Современные конфликты культур говорят о радикальном непонимании конфликтующих сторон: как найти меру для примирения на фоне катастрофического разрушения памятников культуры и веры в сербских землях? Как примирить русских с попранием их культурных прав в Украине? Как примирить носителей традиционной культуры с приверженцами радикализма современного искусства?
В любом случае, существующие здесь некие толерантные договоры не решают пока никаких иных (кроме удерживания от взаимокасания) важных вопросов. Но почему же возможна только эта, достаточно формальная, функция – «договор о невозможности договориться»? Все ли должно исчерпываться ситуацией разъединенности конфликтующих сторон друг от друга? Быть может, стоит как-то признать это отделенное существование вне общей истины? Вне общей культуры? Сами эти вопросы фиксируют уже ситуацию не постсоветскую, а постмодернистскую (именно её философии соответствует эта разорванность общего культурного и смыслового поля).Если «толерантность – это, скажем так, несовместимость навсегда»2, то мы должны искать иные культурные механизмы для понимания и разрешения культурных конфликтов.
Современные формы искусства, особенно акционного, имеют свои цели за пределами искусства. Можно вспомнить, что майдан начинался как искусство и акционизм. Можно вспомнить, что и у нас в центрах современного искусства почему-то проводятся акции, которые называются ЗАБОР или СТЕНА, когда участники ее штурмуют стену или выстроенный забор и получают награду в виде угощения сладостями. То есть цели многих форм современного искусства лежат ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКУССТВА, в области политической идейной, хотя сами художники могут это и не осознавать. Навязанная нам открытость не так невинна, как это обычно представляется. Отмечу, что «открытость» есть еще и форма борьбы с христианскими основами жизни, потому как принцип открытости прямо противоположен канону, норме, традиции, границе.
Глобальное и локальное (индивидуальное) включает в себя и такое проблемное пространство, как антихристианский культурный фронт. Антихристианство не просто открыто о себе заявляет, но рассматривает адекватный ответ со стороны христиан как агрессию и недопустимое антиобщественное поведение. Т.е. антихристианство и антихристианская культура требуют себе РАВНЫХ ПРАВ с христианством и всей историей его культуры! Это фантастика, но это именно так. Двухтысячелетняя история христианской культуры должна потесниться, чтобы дать «достойное» (!) место новейшей антихристианской культуре. «Достойное» – значит не просто рядом, а внутри общей культурной ойкумены! Антихристианство и квир-культура также между собой связаны. (Квир – странный, чудаковатый, эксцентричный сомнительный; подозрительный, подложный, гомосексуалист… Именно в последнем смысле чаще всего понимается квир, как связанный с меньшинствами и ЛГБТ). Их задача – институализация и депатологизация. В России ЛГБТ сопротивляются. На Западе существует уже квир-богословие или квир-теология – это богословское движение, рассматривающее теологию с точки зрения квир-сообщества, то есть ЛГБТ. Несмотря на возникновение различных новых религиозных движений и церквей, ориентированных на ЛГБТ, подавляющее число квир-теологов относятся к традиционным конфессиям, внутри которых они и борются за признание ЛГБТ. Вот этот момент очень важен: они не хотят отдельной территории – подполья культурного или социального, или политического: они хотят быть и занимать территории большинства, территории нормы! Они хотят отвоевывать плодородные культурные и демографические участки жизни, искажать их, делать бесплодными культурно, разрозненными и бездетными демографически. Их не устраивает только то, что они есть. Им нужно завоевать то, что им никогда не принадлежало – пространство христианской нормы. Вот отечественные адепты, пионеры этого движения в России: И. С. Кон, С. Клейн, Ольга Жук, А. Я. Белкин («Третий пол»). Л. В. Жарова.
Что есть у нас? Есть великая русская культура – это великое бремя. Со всей определенностью нужно отвечать, что мы живем во ХРИСТЕ, то есть у нас нет постхристианской эпохи. Мы – христиане, а не постхристиане. Во-вторых, мы должны жить в истории. Что это значит? Отстаивать по-прежнему мысль о том, что субъект истории – народ. Все. Это христианская точка зрения, но и философская тоже. Если субъект истории народ, то наша борьба за христианскую жизнь и христианскую культуру есть важная и реальная задача. Замечу, что слово народ изгнано из нашего обихода. «Мы расходимся с европейцами, но мы должны понимать, что есть две Европы. Есть Европа, которая нам дорога и которую мы любим. Святые камни Европы», – говорил Достоевский. Это Европа Гомера и Эсхила, Шекспира и Данте. Но нынче доминирует другая Европа, и с ней нам не нужно мириться. «Цивилизация Запада идет сегодня на Русскую цивилизацию буквально лобовым натиском, и наша первая задача – не быть баранами. У Запада нет возможности победить Россию в прямом военном столкновении. Единственный шанс Запада на победу — это мы, люди» (Н. Калягин. «Чтения о русской поэзии»). И это касается каждого. Буквально каждого.
1 Впервые с таким пониманием пределов культурного насилия я столкнулась в работе Быстрицкого Е. К. Конфликт культур и философия толерантности // Казахская цивилизация. — 2007. — № 4(28). — С. 18–32.
2 Быстрицкий Е. Там же.

 Основатель обители - прп. Пафнутий
Основатель обители - прп. Пафнутий Священноархимандрит монастыря
Священноархимандрит монастыря Наместник монастыря
Наместник монастыря Последний наместник обители перед ее закрытием
Последний наместник обители перед ее закрытием Схиархимандрит Амвросий Балабановский (Иванов)
Схиархимандрит Амвросий Балабановский (Иванов) Духовник обители
Духовник обители Монастырский хор
Монастырский хор История
История Архитектура
Архитектура Подразделения
Подразделения Подворья
Подворья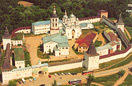 О монастыре
О монастыре Просвещение
Просвещение Издательство
Издательство Молодежное служение
Молодежное служение Калужская епархия
Калужская епархия Православные СМИ
Православные СМИ Боровский край
Боровский край Миссионерская деятельность
Миссионерская деятельность Социальное служение
Социальное служение Доска объявлений
Доска объявлений Фотогалерея
Фотогалерея Аудиогалерея
Аудиогалерея Видеогалерея
Видеогалерея Детская воскресная школа
Детская воскресная школа Многофункциональный центр традиций и инноваций «Стратилат»
Многофункциональный центр традиций и инноваций «Стратилат» Образовательные чтения и конференции
Образовательные чтения и конференции Вопрос священнику
Вопрос священнику Еженедельник «Вестник»
Еженедельник «Вестник» Журнал «Кораблик»
Журнал «Кораблик» Газета «Боровский просветитель»
Газета «Боровский просветитель» Серия «Вера. Образование. Жизнь.»
Серия «Вера. Образование. Жизнь.» Книги
Книги Буклеты
Буклеты Молитвослов-тексты
Молитвослов-тексты Авторы
Авторы Паломническая служба
Паломническая служба Паломнический центр
Паломнический центр Музей "Русской Иконы"
Музей "Русской Иконы" Паломническая служба
Паломническая служба Паломнический центр
Паломнический центр Музей "Русской Иконы"
Музей "Русской Иконы"




